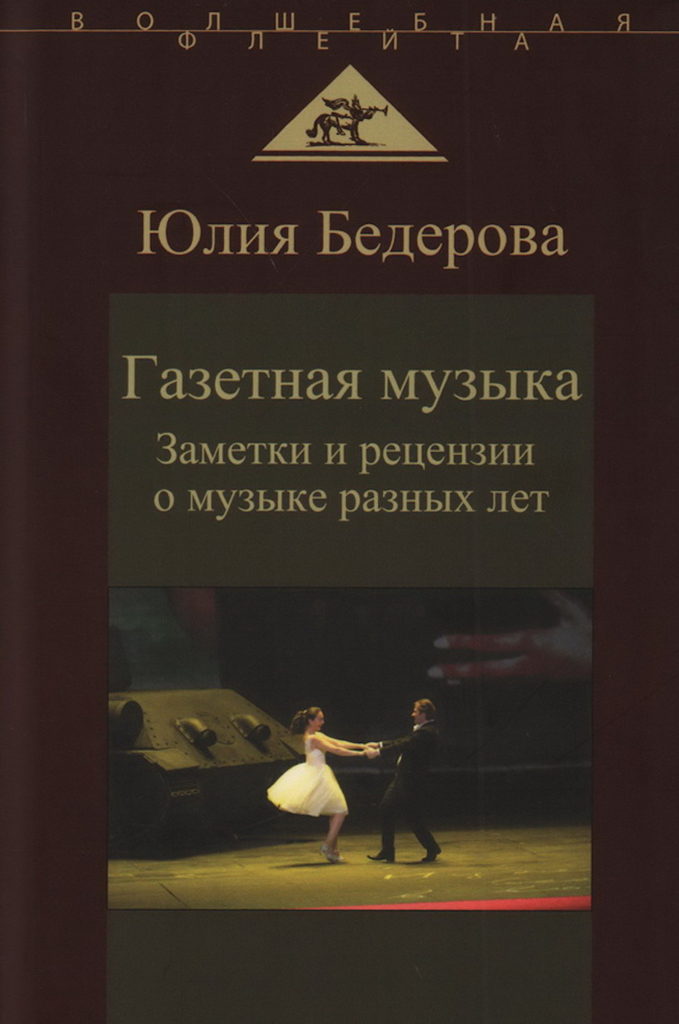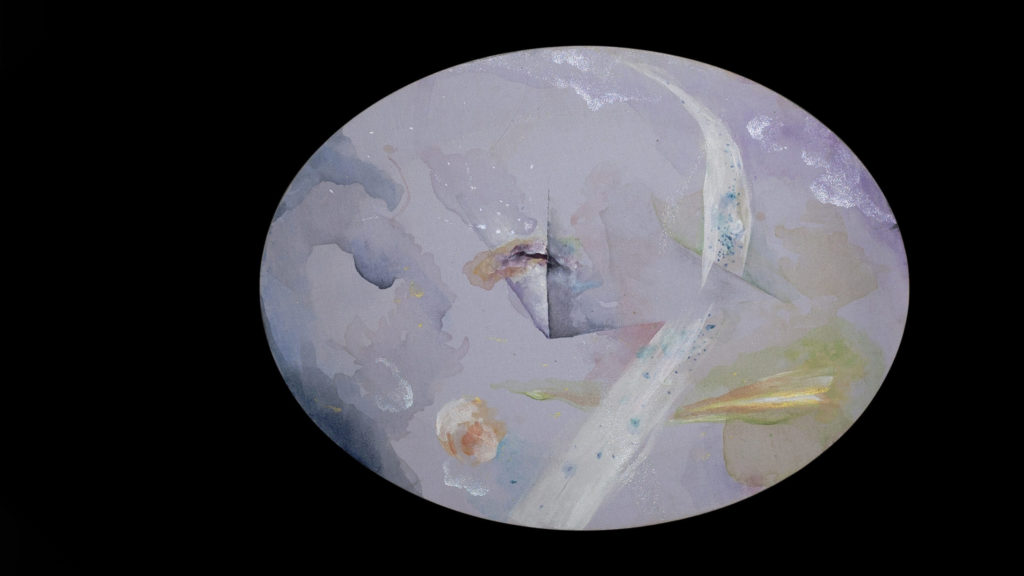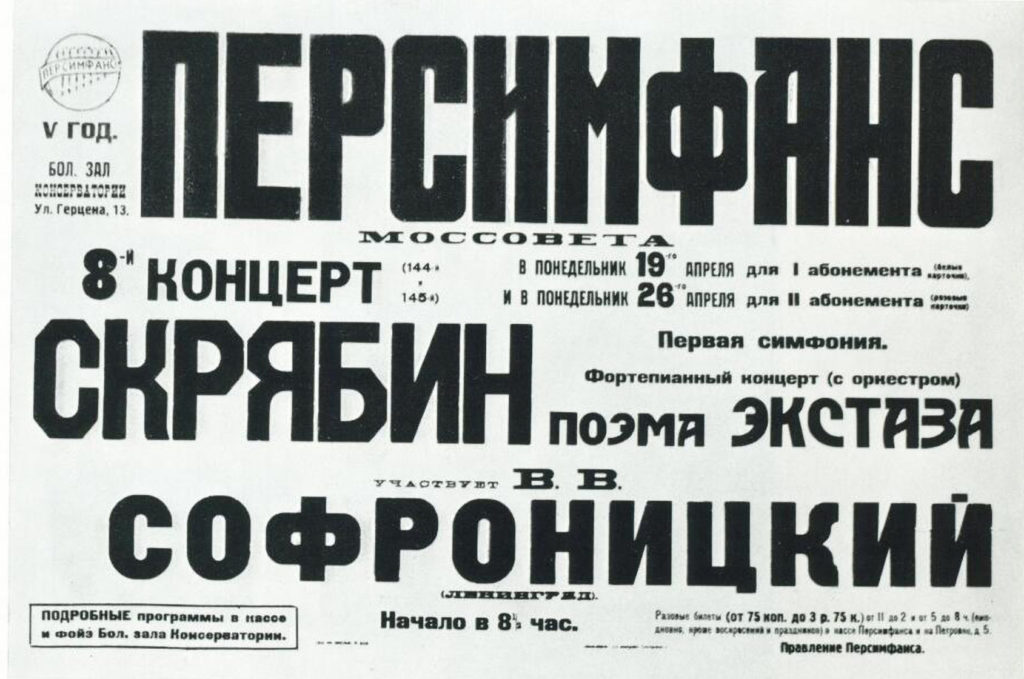А вы уже подписались?!
№8 (223), ноябрь 2023 года
Музыкальная сфера, так же, как и наука, погрузилась в новые цифровые форматы социальных сетей. Кто-то переходил в онлайн осознанно, радуясь безграничным возможностям общения с аудиторией и свободе самовыражения, а кто-то и вовсе избегал. Однако, как показывает практика, сегодня даже региональные музыкальные школы стараются соответствовать современным стандартам, активно публикуя на своих страничках новости о жизни учреждения и записи с концертов.
Цифровое пространство поглотило жизни людей. Теперь, выходя из дома, мы в режиме реального времени проверяем расписание автобусов и электричек, общаемся с семьей и друзьями и, конечно же, обновляем ленту в поиске свежих новостей. Социальные сети затягивают в огромнейшее поле информации, делая нас более осведомленными в мире событий, в том числе культурных. Теперь не обязательно ради концерта выходить из дома, достаточно подключиться к трансляции.
Сегодня каждая серьезная институция имеет свою социальную сеть: будь то Telegram, Вконтакте или Одноклассники. Кроме того, музыкальная культура столицы активно освещается блогерами. Главная задача, как правило – просветительская: научить понимать и любить музыку, в том числе – современную. Отличают все эти странички авторский почерк, подача материала и стиль ведения.

«Музыкальная жизнь». Старейшее авторитетное издание, недавно отпраздновавшее свое 65-летие, чутко следует современным трендам. Сегодня в арсенале журнала и страничка Вконтакте, и Telegram-канал. Вторая сеть пользуется большей популярностью. И связано это, вероятно, с тем, что аудитория самого журнала – публика среднего возраста и выше, Вконтакте – все-таки в большей степени молодежная соцсеть. Среди письменных жанров – анонсы, новости, афиша, релизы, выжимки из рецензий со ссылкой на полный текст.
Дополняют ленту интереснейшие эксклюзивные фото и видео, сделанные прямо во время концерта и тут же оказавшиеся в сети. Особенно радует живой формат ведения каналов: аудитории есть что почитать и послушать из самых свежих материалов. Telegram-канал вовсе не заменяет сайт или печатное издание, скорее страничка является более читабельной мини-версией, которую можно открыть в любое время.

«Культурные люди». А как мог иначе называться Telegram-канал, созданный директором «Радио Культура» Ксенией Ламшиной? Изначально задуманная как личный дневник страничка переросла в огромное культурное пространство, вбирающее в себя музыку, живопись, кино и много всего другого. Ксения свободно общается с аудиторией, которая, на минуточку, уже перевалила за порог десяти тысяч подписчиков. Один из способов продвижения в этой сети – взаимные репосты, а также розыгрыши в содружестве с какой-либо институцией. Например, та же «Музыкальная жизнь» часто добавляет в ленту статьи Ксении.
Интерактив с аудиторией – неотъемлемая часть ведения канала. Так создается впечатление живого взаимодействия с каждым из читателей. Особенно привлекает то, что Ксения оставляет в постах свои размышления, на которые может опереться слушатель. Эксклюзивные видео также периодически появляются в ленте: сами музыканты делятся процессом репетиций. Если вы еще не слушали на Радио Культура программу Ксении «Культурный повод», советую немедленно это исправить! В прямом эфире свободно освещаются совершенно разные темы, причем порой с весьма необычных ракурсов.

«Московская филармония». Пожалуй, единственный в этой подборке канал, представляющий другую социальную сеть с более гибкими возможностями продвижения – Вконтакте. Отличие этой платформы – в наличии ленты, в которой периодически мелькают посты из разных сообществ, на которые, возможно, вы даже и не подписаны. Обилие инструментов ведения странички склоняет многие институции начать «социальную» жизнь именно здесь.
Однако, чем же так хорошо здесь этому учреждению? Давайте разбираться. Большое преимущество для ведения страничек театров и концертных залов представляется именно Вконтакте. Здесь можно запускать трансляции, что, собственно, и делает Филармония. Причем эта социальная сеть сама будет рада в этом помочь: в VK существует отдельный департамент культуры, который заинтересован в продвижении и освещении событий мира искусства. Таким образом, прямую трансляцию смогут увидеть еще больше людей, и, следовательно, у странички появятся новые читатели. Московской филармонии в этом плане можно позавидовать: в их группе уже более семидесяти тысяч подписчиков. Легкий и доступный формат подачи информации особенно привлекает «новеньких». Анонсы, посты о музыкантах, композиторах, интервью, трансляции и записи концертов – Московская филармония щедра на эксклюзив. А сколько здесь собрано концертов! И жизни не хватит все переслушать!
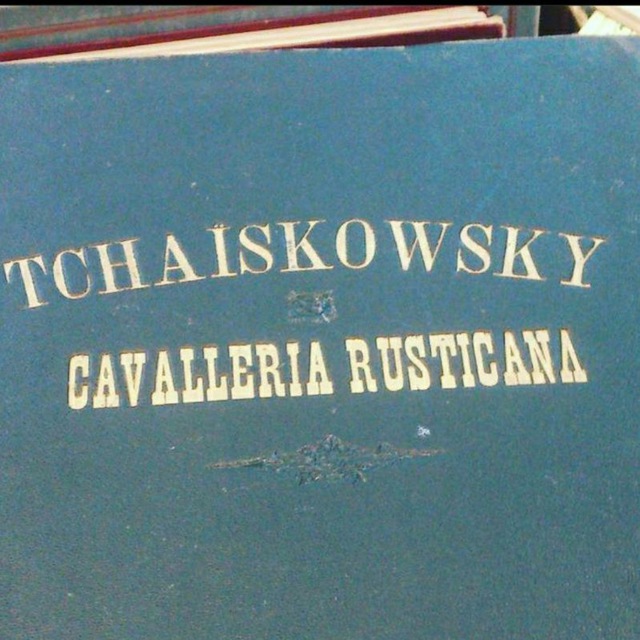
«Shameless musicology». Телеграмм-канал дирижера и музыковеда Никиты Дубова относится к числу страничек, авторы которых не ограничиваются академическими серьезностями, но наполняют содержание околомузыкальной проблематикой и уместной иронией. Будучи лауреатом премии «Резонанс», Никита пишет на разные темы: его статьи мы можем встретить на страницах «Музыкальной жизни». Личный блог с ироничным названием «Бесстыдное музыковедение» – отдушина автора, где академическое письмо соединяется с юмором.
Наряду с серьезными высказываниями о тех или иных постановках, композиторах и событиях, в постах критика улавливается личное отношение к написанному, чего, например, никогда не будет в канале академической институции.
Интересы блогера разнообразны: помимо ведения Telegram-канала с аудиторией в 1167 подписчиков, он состоит в хорах Венской оперы, Венского филармонического оркестра и хоре имени Арнольда Шёнберга, участвует в постановках опер как драматург и ассистент режиссера. Нередко Никита делится блогами своих коллег, курсами для музыковедов и журналистов, а также выступает в качестве спикера в профильных проектах. Например, на весеннем интенсиве «Речь о музыке» он поделился особенностями ведения Telegram-канала и рассказал, как писать о музыке в разных форматах.

«Sergeibulanov_muzlif». Сергей Буланов – музыкальный критик, музыковед и эксперт проекта «XX век. Знаки времени» на канале «Россия-Культура», а также один из популярных блогеров в академическом искусстве. Среди авторских рубрик блога Сергея Буланова – оперные новости, новости искусства и образования, афиша и рекомендации, музыкальные шутки и прямые эфиры с приглашенными экспертами. Главный интерес журналиста и критика – оперный театр, поэтому большую часть контента составляют посты о вокалистах, дирижерах и постановках.
Записанные видео можно сохранить и выпустить в качестве дополнительного поста на страничке. Это лекции об операх «Нос» Шостаковича и «Дон Жуан» в ГАБТ, о региональных театрах, а также практические рекомендации, как вести социальные сети об опере и многое другое. Подобный формат помогает объединить аудиторию разных авторов и собрать на страничке новых подписчиков.
Почему все идут в онлайн?
Благодаря социальным сетям появились новые профессии, куда идет молодое поколение, разбирающееся в тонкостях техники и Интернет-политики. Стало легче заявить о себе и начинающим музыкантам: многие ведут YouTube каналы, заводят странички в соцсетях, где делятся своим творчеством.
SMM-специалисты, наполняющие содержанием социальные сети, помимо технических навыков должны обладать глубокими знаниями в области музыки, если мы говорим про академические странички. Следовательно, выпускники музыкальных вузов, особенно музыковедческих факультетов, имеют отличные перспективы найти себя на новом поприще. Свобода самовыражения, удобный график, отсутствие привязки к офису – основные преимущества ведения личных блогов. Для старта требуется лишь большое желание «проявляться» и нести пользу миру. Однако нужно помнить, что ведение личной страницы – такая же работа, как и любая другая, поэтому дисциплина, планирование и креативность должны стать неотъемлемыми качествами авторов.
Как правило, успешными становятся блоги, создатели которых системно публикуют интересный контент, взаимодействуют с аудиторией, сохраняют интригу в постах, а также предоставляют уникальную информацию, которую читатель нигде не найдет. Личность блогера играет в социальных сетях огромную роль. Сквозь призму опыта и уникального видения формируется настроение и атмосфера странички, на которую приходят подписчики, имеющие схожие ценности. Без системности и знаний в своей области стать востребованным специалистом тяжело в любой сфере. Поэтому любой блог строится как на hard, так и на soft skills.
Алевтина Коновалова, IV курс НКФ, муз. журналистика